Вот здесь хорошо написано
Channel
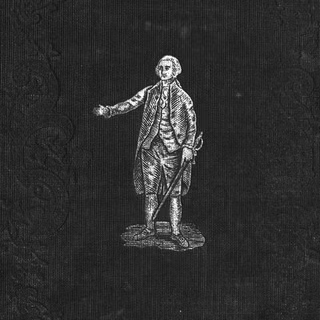
3.58K
subscribers
Читаем вместо вас и делимся самым интересным!
Предложить пост:
@vzhn_bot
Поддержка проекта:
https://boosty.to/vzhn
Реклама:
@VZHNads_bot
Love Center - Dating, Friends & Matches, NY, LA, Dubai, Global
Find friends or serious relationships easily
